История античной науки. Открытия великих ученых и мыслителей древности
Tekst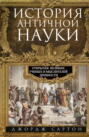


Mine üle audioraamatule
- Maht: 1090 lk. 107 illustratsiooni
- Žanr: Välisriigi õppekirjanduse, populaarne ajalugu
Ранние греческие и финикийские колонии. Изобретение алфавита
Ближе к концу своего существования эгейское рассеяние сопровождалось рассеянием греческим, которое позже сменилось греческой колонизацией. В большинстве случаев участие в этих процессах принимали одни и те же народы, только эгейские культурные традиции постепенно заменялись греческими. Смесь двух этих типов культуры отчетливее всего проступает на Кипре, где минойская культура сохранялась дольше, чем в других местах. Насколько вообще можно воссоздать события «темных веков»? Во всяком случае, археологи сходятся во мнении о существововании трех главных волн ранних миграций на юг. Во-первых, племена, пришедшие с западного побережья, захватили Фессалию, вытеснив жившие там племена, которые переселились в Беотию. Во-вторых, северяне, дорийцы, заполонили большую часть Пелопоннеса и многие острова; они добрались до Крита на юге и до Родоса на востоке. В-третьих, одни северо-западные племена двинулись из Эпира по Ионическому морю в Апулию, а другие захватили территории, расположенные выше Коринфского залива и Элиды в северо-западной части Пелопоннеса. По словам Фукидида, первые две волны нахлынули примерно через 60 и 80 лет после падения Трои. За первыми волнами мигрантов следовали другие. Самыми мощными стали миграция дорийцев (которая продолжала уже упомянутые переселения дорийцев), миграция эолийцев, которая привела к оккупации Тенедоса, Лесбоса и Мисии (части материка, расположенной напротив Лесбоса), а также миграция ионийцев, во время которой вытесненные обитатели северной части Пелопоннеса и Аттики устремились на Кикладские острова, Хиос, Самос и части материка напротив этих островов (Галикарнас, Книд).
Сейчас почти невозможно проследить подробности тех миграций во времени и пространстве; нам достаточно помнить о них в совокупности. В «темные века» многие народы и племена вытесняли друг друга из одной части прежнего эгейского мира в другую; возможно, некоторые из них раздвигали более ранние границы этого региона. Греческая колонизация по-своему продолжает прежнюю, эгейскую.
В большинстве случаев мигранты или колонисты не прокладывали новые пути, а шли по уже известным. Они не рвались во мрак, но целенаправленно и массово стремились в те места, которые их манили. Например, известно о колониях дорийцев в Вифинии (восточное побережье Мраморного моря) и в Крыму; ионические колонии были разбросаны по всему Причерноморью. Беспорядки в Греции, уничтожившие эгейскую культуру, сопровождались такими же беспорядками, уничтожившими каменный век трипольской культуры и заменившими ее медным веком. Но и это был еще не конец. Человеческие волны, подобно волнам механическим, никогда не останавливаются совсем; то есть, если им сообщается новая энергия, время от времени они движутся дальше вечно; вибрация передается от одной системы к другим. Бурные волны железного века перекатывались через Скифию и дальше, до самого Китая.
Прежде чем мы оставим берега Черного моря, полезно вспомнить, что первыми начали обрабатывать железо, скорее всего, хетты. В середине второго тысячелетия хетты – сами или опосредованно – передали технологию в Месопотамию и Египет. После того как железо попало в Эгейский регион и вызвало настоящую революцию, ее отголоски всколыхнули берега Черного моря. Так завершился важный цикл. Хетты процветали главным образом на излучине Красной реки (самая длинная река Малой Азии; античное ее название Галис; турецкое название Кызылырмак). Возможно, изделия из железа везли вниз по этой реке к Черному морю, а оттуда через проливы – к Эгейскому морю. Мы уже заметили выше, что хетты говорили на языке, который не очень отличался от древнегреческого; у них один предок. Короче говоря, индоевропейцы, жившие в Азии, открыли ценность черной металлургии, а родственные им племена, жившие в Европе, развили их открытие и довели его до первой кульминации.
Если греческие потрясения «темных веков» были вызваны применением железа (они совпали с началом железного века), такие потрясения во многом следует приписать их хеттским предшественникам.
Возвращаемся к Средиземному морю. Когда завершилось морское владычество минойцев, оказалось, что греческие преемники – не единственные их наследники. Первенство сразу же оспорили финикийцы, семитский народ, живший вдоль побережья Сирии, севернее Палестины.
Финикийский язык был ближе к древнееврейскому, чем к любому другому языку семитской семьи. Загадочные гиксосы, которые вторглись в Египет в XVII или XVI в., возможно, были финикийцами (или арабами?) или родственным им племенем. Во всяком случае, существование самих финикийцев подтвердилось после того, как в их страну вторгся фараон Яхмос I (первый фараон из XVIII династии; 1580–1557). После того, но не очень долго, они подчинялись египетскому владычеству. Их часто упоминают в амарнских табличках; какие-то финикийцы пытались свергнуть египетское иго и сговаривались с хеттами, чья растущая мощь и очевидная дружба усиливала надежды финикийцев на освобождение. После нашего старого друга Аменхотепа IV или Эхнатона (1375–1350) египетская власть пошатнулась. Рамзес II (четвертый фараон следующей, XIX династии; 1292–1225) снова завоевал Финикию вплоть до Бейрута и повелел выгравировать многочисленные надписи на стелах в Нахр-эль-Кальбе, севернее Бейрута. При Рамзесе III (XX династия; 1198–1167) финикийцы, воспользовавшись новыми иноземными вторжениями, освободились от египетского правления. Они сохраняли независимость до ассирийского завоевания (ок. 876).
Поскольку финикийцы жили на восточных берегах Средиземного моря, нет ничего удивительного в том, что они очень рано проявили интерес к мореплаванию. Взгляните на карту! Финикийцы как будто стояли на балконе, с которого открывался вид на всю средиземноморскую жизнь. В ясный день они видели холмы на Кипре; Египет, который по-прежнему оставался выдающимся культурным центром и крупнейшим рынком, находился слева от них. Однако, пока продолжалась минойская талассократия, возможности финикийских моряков были ограниченными. А если они отваживались зайти слишком далеко, с ними обращались как с пиратами. Примерно в XII в. до н. э., когда критяне значительно утратили силы, их преемниками готовы были стать – и стали! – финикийские моряки. Быстрота, с какой они взяли бразды правления в свои руки, служит достаточным доказательством долгой подготовки. Поскольку освобождение финикийцев от египетского владычества совпало с падением Крита, они могли в полной мере воспользоваться ситуацией в своих целях. Вскоре они забрали в свои руки почти всю средиземноморскую торговлю; кроме греков, у них не было других конкурентов. Вероятно, торговлю греческих колоний вели греческие моряки. Поэтому финикийцам пришлось основать собственные колонии или фактории (то есть торговые станции). Главным центром финикийской торговли стал город-государство Тир, чья слава увековечена в строках Книги пророка Иезекииля (27: 13–25). Уроженцы Тира открыли фактории на Кипре, Родосе, Тасосе, Китире, Корфу, Сицилии, Гозо, в Ливии, на Пантеллерии, в Тунисе, на Сардинии и других островах. Финикийские поселения правильнее называть именно факториями, а не колониями, потому что они существенно отличались от греческих: если последние не зависели от родины (как рой от улья), то первые больше напоминали филиалы, управляемые центральной администрацией в Тире. Почти везде финикийцы составляли конкуренцию грекам. Соперничество распространялось не только на торговлю, но и на мореплавание. Греки ненавидели финикийцев и обвиняли их в жадности и нечестности; возможно, эти обвинения и ненависть были взаимными. Самым знаменитым из финикийских отдаленных поселений был Карфаген, первое поселение финикийцев на африканской земле, учрежденное в стратегическом месте. Карфаген возник в IX в., если не раньше. Соперничество греков и финикийцев, начавшееся в XII в., в том или ином виде оставалось одной из главных тем античной истории; война между греками и персами (499–478) была в большой степенью войной между греческим и финикийским флотами; Пунические войны (264–146) между римлянами и карфагенянами стали последним испытанием, которое окончилось победой западной державы.
Финикийцы колонизировали обширные пространства; их владения простирались вплоть до Испании, точнее, до западного побережья Испании, до самого Гибралтара. По словам Страбона, финикийцы проникли туда вскоре после Троянской войны. Купцы из Тира экспортировали огромный ассортимент товаров: стекло и керамику, металлические изделия, изготовленные из кипрской меди, ткани, украшенные вышивкой. Судя по всему, основной статьей экспорта (скорее всего, в этом они считались монополистами) были ткани, крашенные пурпурной краской, которую получали из моллюсков Murex trunculus и Мпгех brandaris. Почти все продаваемые ими товары приобретались в Египте, Аравии, Месопотамии или на островах. Часто им приписывали различные изобретения (например, стекла), хотя они не изготовляли те или иные товары, а просто торговали ими. Финикийские произведения искусства в большой степени подражали египетским образцам.
По сути, финикийцы не были творцами, какими стали греки в более позднее время; главным образом они были купцами, так сказать, международными посредниками и промышленниками. Они отличались острым умом и активностью. Искусства в Средиземноморье (колыбели нашей цивилизации) во многом развивались благодаря их помощи.
Выдающейся заслугой, какую финикийцы оказали человечеству, – и ее важность невозможно переоценить, – стало изобретение алфавита; можно назвать его шедевром посредничества. Как уже объяснялось в предыдущих главах, алфавитные или слоговые знаки были изобретены и использовались отдельно египтянами и шумерами. Однако между использованием таких знаков и использованием только их – огромная разница. Вероятно, независимо открытие сделали критяне и финикийцы или какие-то соседи последних (в Рас-Шамре или на Синае). Критскую слоговую азбуку пока не удалось расшифровать, и она не оставила после себя преемницы, кроме кипрской слоговой азбуки гораздо более позднего времени. Азиатское изобретение было наверняка сделано до 1000 г., а скорее всего, уже в 1500 г.; пусть финикийский алфавит и не был самым первым, к концу XI в. он возобладал и остался единственным. Пережив бесчисленные изменения, он сохраняется в большинстве используемых сегодня алфавитов. Давайте рассмотрим его подробнее.
Финикийская система письма использовала консонантный принцип; каждый из его знаков обозначал согласный или долгий гласный звук (который мог приобретать качество согласного, как w и у). Для кратких гласных знаков не было; поэтому знак для b мог использоваться как для конечного Ь, так и для таких слогов, как ba, bi, bu, be, bo. Такой же вид алфавита по-прежнему используется в иврите и арабском и не создает больших трудностей для людей, которые достаточно хорошо знают слова данного языка и их изменяемые формы. С течением времени греки позаимствовали финикийский алфавит и усовершенствовали его, добавив в него новые знаки для обозначения кратких гласных.
По мнению Геродота, алфавит привезли в Грецию финикийцы, которые пришли с Кадмом. Кадм Тирский, сын финикийского правителя, – один из мифологических персонажей финикийского происхождения. Достаточным доказательством семитского происхождения греческого алфавита служит то, что первые три буквы этого алфавита носят семитские названия («альфа», «бета», «гамма»; «алеф», «бет», «гимель»). Порядок букв во всех античных алфавитах (за одним исключением) совпадает с порядком букв в семитском алфавите. Исключением является санскрит (деванагари), в порядке знаков которого преобладает фонетический принцип.
Сутью изобретения стало стремление представить каждый звук языка возможно меньшим количеством знаков и так, чтобы исключить двусмысленность. Финикийский писец, который изобрел алфавит, превосходно знал родной язык и старался свести количество знаков к минимуму; поскольку сам он не путался в произношении (особенно гласных), он счел избыточным отражать гласные на письме. Позже греки исправили его заблуждение. Финикийцы оказались слишком экономными, но не стоит их в том обвинять. Алфавитную экономию, столь прозрачную для них, не поняли другие народы – и по сей день ее не до конца понимают те народы, чье письмо является алфавитным. Западные первопечатники вначале не понимали, что они могут печатать каждую латинскую книгу с помощью набора из двадцати с лишним знаков; пытаясь подражать лигатурам и сокращениям копиистов, они применяли более 150 различных знаков! И сегодня арабским печатникам требуется гораздо большее количество знаков, чем требует арабский алфавит (28 знаков), так как многие буквы следует писать по-разному в начале, в середине или в конце слова, а также в связке с определенными другими буквами.
Данный пример показывает, как трудно убеждать людей принять великое изобретение, которое упрощает их труд и экономит силы. Иными словами, после первых робких опытов египтян и шумеров и неудачных изобретений критян и других народов финикийцы стремились к излишнему упрощению. Их примеру следовали алфавиты в других семитских языках. Можно сказать, что греки нашли идеальное решение. Их примеру следовали другие языки. Некоторые из них чрезмерно усложнены, но их алфавитом пользуются по сей день. Тем, кому хочется умалить изобретение финикийцев из-за его несовершенства, стоит представить некоторые современные алфавиты, особенно английский – настоящее уродство, – и быть немного скромнее. Да, в финикийском алфавите нет знаков для гласных, зато в английском алфавите гласные буквы в половине случаев не соответствуют произношению. Неужели это намного лучше? Алфавитная экономность стремится к минимализму. В английском алфавите очень мало знаков. Более того, их слишком мало, как и в древнем финикийском. Использование такого алфавита сопряжено с большим количеством неясностей и двусмысленностей – наверное, большим, чем в любом другом языке. Тут нечем гордиться.
Прежде чем мы перейдем к другой теме, сделаю последнее замечание. Должно быть, можно изобрести один алфавит, который будет подходить для фонетической передачи всех языков. Международный алфавит такого рода предложили на Копенгагенской конференции 1925 г., и после нескольких модификаций его приняла Международная фонетическая ассоциация (последнее издание – 1951 г.). К сожалению, такой алфавит пока не приобрел популярности и, возможно, никогда ее не приобретет. С ним связаны огромные, вероятно, непреодолимые, трудности. Более скромной, однако более достижимой целью стало бы создание четкого и ясного алфавита для каждого языка. Когда англоговорящие завершат такую реформу собственного языка, у английского будет гораздо больше шансов стать вторым языком для других народов.
Мое отступление от основной темы служит доказательством больших потенциальных возможностей изобретения финикийцев. Оно оказалось таким простым и вместе с тем таким глубоким, что некоторые самые цивилизованные народы нашего времени по сей день не оценили всех его последствий.
В силу необходимости я описываю это важнейшее изобретение чрезмерно упрощенно. К. Шеффер открыл в Рас-Шамра угаритский алфавит, который, возможно, старше финикийского; во всяком случае, эти два алфавита тесно связаны, и буквы в них идут в том же порядке. Этот порядок оставался неизменным на протяжении 3000 лет, как и в нашем алфавите, только z во времена Цицерона передвинули в конец.
Изучая искусство алфавитного письма (или искусство письма в целом), необходимо помнить, что в течение долгого времени общество было по преимуществу неграмотным. Невзирая на то что письмо уже было изобретено, им владели далеко не все. Неграмотность здесь мы понимаем в строгом смысле слова, как неумение читать и писать. Однако неграмотность в нашем понимании часто сочеталась с высокой степенью образованности, даже с литературным и поэтическим дарованием. Многие великие поэты были «неграмотными». Объясняется это глубоко укоренившейся традицией запоминания. Многие, в том числе высокообразованные люди, не ощущали необходимости в письме. Скорее всего, устная традиция была очень сильна в золотой век эллинизма; иначе едва ли была бы понятна диатриба Сократа против письма в «Федре». Еще один любопытный факт, подчеркнутый М. Мюллером, заключается в том, что ни у одного греческого автора мы не встретим изумления и восхищения самым чудесным изобретением Античности – алфавитом. Конечно, все основополагающие открытия раннего времени принимались как должное, как наши дети принимают как должное чудеса нашего времени.
Ожесточенное соперничество греков и финикийцев не настолько разделило их, чтобы они не оказывали влияния друг на друга. Мы только что привели главное доказательство влияния последних на первых; нет сомнения в том, что греческий алфавит образован от финикийского. Более того, в греческом языке укоренилось немало финикийских (по крайней мере, семитских) слов, которые отнюдь не принадлежат к числу редких: chrysos (золото), cypros (медь), chiton (хитон, мужская одежда), othone (тонкая материя), baitylos (метеоритная порода), byssos (лен, полотно), gaylos (вид корабля), шпа (мина, мера веса или денежная единица), myrra (мирра, ароматическая смола), nabla (10- или 12-струнный музыкальный инструмент) и – последнее по порядку, но не по значению – byblos или biblos (папирус, книга; отсюда Библия).
Преемственность восточных традиций
Прежде чем идти дальше, имеет смысл еще раз предупредить читателей: не стоит считать, что восточные традиции предвосхищали достижения греков, а затем вдруг прекратились. Почти все открытия египтян, жителей Месопотамии и финикийцев, очевидно, были сделаны до Гомера. Однако нельзя забывать, что эти древние цивилизации в той или иной форме сохранялись до римских завоеваний и даже пережили их. В дополнение к доэллинским влияниям Греция подвергалась и многим другим. Иными словами, существовал бесконечный обмен между Востоком и Западом.
Чтобы лучше понять ситуацию, спросите себя, как бы вы ответили на вопросы типа «Повлияли ли французы на итальянцев?» и «Повлияли ли итальянцы на англичан?». Ответить на подобные вопросы совсем не просто. Когда два культурных народа процветают одновременно, между ними идет упорная конкурентная борьба; в одно время верх одерживает один из них, а второй подражает, в другое время ситуация обратная и т. д.
В некотором смысле каждый поток мысли, раз начавшись, продолжает течь, и, даже когда поток почти полностью прекратился, возникают отложения, напоминающие о прошлом. Во всех языках есть слова, похожие на ископаемые остатки ранней жизни. Так, в английском имена Isidore, Susannah, слова megrim (мигрень), ebony (черное дерево), gum (гумми, камедь), adobe (саман; глинобитное строение) пришли из Древнего Египта.
Египетские идеи, виды искусства и обычаи в «темные века» передавались не только посредством самих египтян, но и посредством эгейцев, финикийцев и греков, которые торговали с ними и завязывали самые разные отношения. Конечно, войны и перевороты положили конец многим таким традиционным связям, однако они не могли уничтожить их все. Оставшегося хватило, чтобы в мыслях потомков сложилась своего рода египетская модель или мираж. Египетские традиции поддерживались ремесленниками, путешественниками, сказителями и сплетниками; время от времени они снова входили в обиход благодаря таким великим писателям, как Геродот в V в., Платон, Аристотель, Теофраст, Неарх – в IV, Агатархид Книдский во II в., Цезарь, Посидоний, Диодор, Страбон и Витрувий в I, и даже различным представителям нашей эры, такими как автор руководства «Перипл Эритрейского моря» Диоскорид, Иосиф Флавий, Колумелла, Тацит, Лукан, но, главное, Плиний в I в., Афиней и Зосима Панолитанский – в III в.
В Египте связи между греками и местными жителями стали более частыми и тесными в эпоху XXVI (которую также называют Сансской) династии (663–525) и во время персидского завоевания (525–331); они еще укрепились после завоеваний Александра Македонского. Последствия этих завоеваний, ориентализация Запада, а также вестернизация Востока, настолько обширны и многочисленны, что нет необходимости говорить о них особо; более того, они касаются более позднего периода, чем тот, которому посвящена данная книга. Мы упоминаем здесь о них только для того, чтобы проиллюстрировать непрерывность взаимного обмена между Востоком и Западом во все века. Этот взаимный обмен никогда не прекращался и продолжается по сей день, но его интенсивность и периодичность в обоих направлениях время от времени меняются.
