История античной науки. Открытия великих ученых и мыслителей древности
Tekst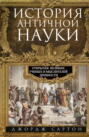


Mine üle audioraamatule
- Maht: 1090 lk. 107 illustratsiooni
- Žanr: Välisriigi õppekirjanduse, populaarne ajalugu
Изобретение письма
Выше уже отмечалось, что в Месопотамии в ходу были два по сути разных языка – шумерский, а позже аккадский. Шумерский не относится ни к семитским, ни к индоарийским языкам; это агглютинативный язык, что наводит на мысли о сравнении его с монгольским, японским или китайским языками, однако он отличается от них и от других азиатских языков. Зато аккадский язык явно относится к семитским и близок к древнееврейскому – настолько, что аккадские таблички способствовали более ясному пониманию Библии. Он существовал в виде многих диалектов, которые называются вавилонским, ассирийским, халдейским – впрочем, названия им дали филологи. Нас же больше всего интересует то, что в Месопотамии, как и в Египте, столкнулись два языка, один из которых был семитским. Сравнение – как и всякое сравнение с Египтом – является недостаточным. Лингвистическая ситуация в двух странах была совершенно разной. В Египте столкновение двух языков вскоре закончилось ассимиляцией; самые ранние записи уже демонстрируют существование единого языка, отчасти хамитского, отчасти семитского. В Месопотамии до конца третьего тысячелетия повсеместно использовался шумерский язык. Затем его постепенно заменяли различные восточносемитские языки, тесно связанные между собой: аккадский, вавилонский, ассирийский, халдейский. Шумерский язык оказался совершенно не подверженным семитскому влиянию, зато в семитских диалектах сохранилось много шумерских элементов.
Все эти языки обладали особой письменностью, которая называлась клинописью, так как состояла из клиновидных значков. Клинопись изобрели шумеры. Было ли их письмо изобретено независимо от египетского? Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо пояснить, что передачу какого-либо изобретения можно понимать в двух очень разных смыслах, в зависимости от того, учитывать ли изобретение в целом или его техническую сторону. Общая идея в данном случае состоит в том, чтобы точно воспроизводить устную речь, стандартизовать ее и увековечить с помощью письменных знаков. Такая идея появилась у многих народов независимо друг от друга. На самом раннем этапе она естественна и достаточно проста. Пиктографические знаки без труда могут напоминать об идеях или фактах. Такими знаками пользуются американские индейцы, индусы, китайцы, шумеры, египтяне и другие. Даже мы по-прежнему используем некоторые из них; так, череп и кости на бутылках с ядами в истолковании не нуждаются. Однако умные люди должны были рано или поздно понять, что такой способ редко бывает лишен двусмысленности, а его охват довольно ограничен. Пиктография не позволяет представлять абстрактные понятия, чувства, имена собственные. Что касается технического внедрения идеи, методы египтян и шумеров настолько различны, что мы можем быть уверены: они не влияли друг на друга.

Рис. 15. Развитие клинописи. Интересно, что сходство знаков с предметами больше с правой стороны (например, № 3)
Шумеры (или какие-то их неизвестные предшественники) не начинали свои опыты с клиновидных символов. Подобно китайцам или египтянам, они начали с пиктограмм, и некоторые из них сохранились (рис. 15). Позже они использовали так называемые линейные символы, образованные из ранних картинок. Это было вполне естественно до тех пор, пока письмо оставалось исключительным занятием и символы можно было высечь, скажем, на твердых скальных поверхностях. Естественно, с распространением письма возникла новая задача – найти подходящий материал, на котором можно писать. Египтяне, как мы помним, нашли замечательный материал – папирус. Шумеры, в распоряжении которых имелись поистине неисчерпаемые запасы глины в Нижней Месопотамии, придумали использовать для письма глиняные таблички. Они обнаружили, что на мягкой свежей глине можно быстро оставлять длинные ряды значков с помощью остро заточенной тростниковой палочки. Как только высыхала глина, значки также высыхали и оставались видимыми неопределенный срок. Результат улучшался, если таблички обжигали. Однако писец, который писал на глине, ни в коей мере не обладал той же свободой, что его египетский коллега, который писал на гладком папирусе. Последний работал словно художник или чертежник; первый мог изображать лишь два или три вида значков или клиньев. Неизбежным следствием выбора глины в качестве писчего материала стала клинопись.
Основу шумерской письменности составляли около 350 слоговых знаков; она так и не достигла стадии подлинного алфавита, даже в ограниченном виде, как произошло у египтян. Семитские преемники шумеров пользовались той же письменностью, приспособив ее к своему языку и иногда сохраняя шумерские слова в виде идеограмм. Эволюция клинописи сравнима с эволюцией китайской и египетской письменности в двух смыслах. Во-первых, одни и те же потребности обусловили необходимость добавления фонетических дополнений (которые указывают на произношение) и непроизносимых детерминативов (которые указывают на значение, «класс» слова). Во-вторых, с увеличением скорости письма знаки неизбежно упрощались; различные виды скорописи и стенографии значительно изменили вид знаков.
Для непосвященных клинопись кажется очень неуклюжей и неудобочитаемой, однако определенные достоинства есть и у нее. Достаточно вспомнить, что, несмотря на частые смены политической обстановки, она оставалась стандартным видом письма для Месопотамии почти до нашей эры, то есть на протяжении трех с лишним тысячелетий! Клинописью пользовались разные народы, говорившие на столь разных и неродственных языках, как шумерский, с одной стороны, и восточносемитские диалекты – с другой. Клинопись не была ограничена лишь народами Месопотамии. Она распространилась на страны к востоку от Тигра и к северу и западу от Междуречья.
Приведем несколько примеров. Самая большая из амарнских табличек представляет собой письмо, написанное неким Тушраттой, царем Митанни, Аменхотепу III (1411–1375). Послание написано не на вавилонском, а на хурритском языке; кстати, это самый длинный известный нам текст на хурритском языке. Многие тысячи клинописных табличек были найдены в Богазкале и других местах в Анатолии. Самые древние из этих табличек были написана на аккадском (или вавилонском) языке, но более поздние (примерно к 1400 г.) жители Анатолии писали на своем языке, хеттском. В Богазкале найдены несколько слоговых азбук или словарей, где в параллельных столбцах приводятся эквиваленты одних и тех же слов на хеттском, шумерском и аккадском языках; некоторые (немногочисленные) таблички содержат тексты на хурритском языке, но подавляющее их большинство на хеттском. Хеттское влияние распространилось до самого Египта; доказательством служит договор, заключенный между одним хеттским правителем и Рамзесом II (1292–1225). До нас дошли две таблички; на одной содержится оригинальный вавилонский текст договора, на другой – его перевод на иероглифы. Самый интересный из обнаруженных хеттских текстов представляет собой пособие по коневодству XIV в.; мы к нему еще вернемся. Хеттский язык родствен индоевропейской языковой семье; он произошел из одного источника с индоевропейскими языками. Хурритский же язык не имеет родственных связей ни с индоевропейскими языками, ни с египетским, ни с шумерским.
Характерная особенность клинописи – ее легкая приспособляемость к глине; поэтому там, где писали на глиняных табличках, использовалась клинопись. Так обстояло дело в Анатолии, а также в Эламе к востоку от низовьев Тигра, где издревле писали клинописью. Инерция мышления сохранила использование клинописи даже в таких (довольно редких) исключительных случаях, когда писали не на глине, а на других материалах, например, высекали надписи на камнях или на гирях. Надписи, благодаря которым удалось разгадать загадку клинописи, относятся к эпохе Ахеменидов. Они написаны в три столбца на трех языках – древнеперсидском, вавилонском и эламском. Все три столбца записаны клинописью. Самой крупной и известной из таких многоязычных надписей является Бехистунская надпись – трехъязычный клинописный текст на скале Бехистун (Бисутун) между Керманшахом и Хамаданом в Иране, высеченный по приказу царя Дария I и увековечивший его победы в 516 г. до н. э. Именно эта надпись дала Г. Роулинсону в 1847 г. ключ к дешифровке вавилонского языка и привела к зарождению «ассириологии» как науки (1857).
Итак, к концу XV в. до н. э. вавилонский стал языком дипломатии, а клинопись ее письменностью. Язык был распространен широко, а письменность еще шире. Клинописью записывали тексты не только на тогдашнем вавилонском языке, но и на древнешумерском, на диалектах ряда соседних народов: эламском, хеттском, хурритском, финикийском и других. Клинописные таблички, содержащие тексты на том или другом из указанных языков, были рассеяны по всей Западной Азии.
Если не забывать о том, что та часть мира стала колыбелью некоторых самых драгоценных черт нашей цивилизации, нашей колыбелью, невольно испытываешь трепет, когда наблюдаешь активное смешение рас, которое уже происходило там до 1000 г. до н. э. (на самом деле гораздо раньше этой даты), и многообразие языков наряду с единой письменностью.
Архивы и школы. Рождение филологии
Клинописные надписи на камне и иных материалах, отличных от глины, встречаются сравнительно редко; подавляющее большинство клинописных текстов сохранились на глиняных табличках. Мы уже отмечали, что распространенность этого материала для письма определила распространенность клинописного шрифта. Стоит рассмотреть сами таблички повнимательнее. Глина встречалась повсеместно и была дешева; изготовление табличек было делом чрезвычайно простым, гораздо проще, чем изготовление папируса. Более того, глиняные таблички, даже необожженные, были практически неразрушимыми, если их не бить. Неприкосновенность определенных документов достигалась тем, что их помещали в глиняные «конверты». Высыхая, глина значительно сжимается; важный документ невозможно было извлечь из «конверта», не разбив его; нельзя было и закрыть предварительно «усохшую» табличку. Следует заметить, что сохранность папирусов объясняется не столько долговечностью самого материала, сколько сухим египетским климатом. Если бы на папирусах писали в Месопотамии, от них вскоре ничего бы не осталось. Большое количество табличек использовалось для сохранения всевозможных документов, частных и публичных. Количество позднейших спасенных табличек настолько велико, что пройдет еще много времени, прежде чем их переведут.
Глина не так приспособлена к каллиграфии, как папирус, поэтому клинописный шрифт никогда не был областью искусства, как написание иероглифов. Хуже того, глина быстро высыхает, и всю табличку необходимо было исписать за один раз, если не накрывать наполовину исписанную табличку влажной материей, подобно тому как скульптор накрывает неоконченную модель из глины. Подавляющее большинство табличек имело сравнительно маленькие размеры. Более длинные тексты, такие как летописи, как правило, писались на внешних поверхностях полых глиняных многогранников (цилиндров или призм с шести-, семи- и восьмиугольными основаниями), но чаще их записывали на нескольких табличках.
И египтяне, и шумеры изобрели письмо; они в большом масштабе развивали и применяли свое изобретение. Египтяне, которым повезло с более удобным материалом, сделали дополнительное изобретение, свиток или книгу, благодаря чему текст любой длины можно было сохранить целиком. Шумеры оказались не столь удачливыми. Некоторые важные тексты (например, «Кодекс Хаммурапи») записаны на больших поверхностях полых глиняных призм или высечены на больших каменных плитах. Однако такие исключения нельзя приравнять к свитку. В большинстве же случаев для длинных текстов брали необходимое количество отдельных табличек. Чтобы не путать последовательность, писцы писали внизу каждой таблички «табличка × ряда у» и добавляли первую строку следующей таблички, однако этого приема оказалось недостаточно для соблюдения целостности текста. Свитки папируса, как правило, сохранились целиком, но таблички почти никогда не доходили до нас в нужном порядке. Таблички перетасовывали и меняли местами; некоторые из них терялись или оказывались отделены от других. Сначала их разделяли, потому что хранилища сгорали или рассыпались, как многие дома из саманного кирпича; далее дома перестраивались, велись тайные и научные раскопки, таблички продавались и т. и. Многие таблички, которые хранятся в наших музеях, куплены у торговцев, которые приобретали их у арабовпосредников, скрывших источник их происхождения. Таким образом, одна часть текста может оказаться в каком-нибудь музее в России, а остальные, где представлен тот же текст, – в частной коллекции в Америке. Даже отдельные таблички могли разбиться, а их части рассыпаться. Медицинский текст, изученный Э. Чиерой, записан на разбитой табличке, одна часть которой находилась в Филадельфии, а остальные – в Константинополе. Воссоздание клинописного текста часто похоже на складывание головоломки фантастической сложности.
Возможно, то, что им не удалось придумать книги, заставило шумеров быстрее развивать создание архивов и библиотек. Можно предположить, что в египетских храмах и дворцах хранились собрания свитков папируса, но хранение табличек в должном порядке было еще более насущной задачей, чем хранение цельных книг.
Поэтому весьма вероятно, что архивы и библиотеки появились в Месопотамии очень рано. Вкратце можно сказать, что египтяне изобрели книги, а шумеры изобрели хранилища!
Огромную «библиотеку» раскопал американский археолог в Ниппуре; многие тысячи табличек, найденные там, сейчас находятся в музеях Константинополя и Филадельфии. Большинство табличек были необожженными и потому сохранились не так хорошо, а расшифровать их оказалось труднее. И все же они содержат множество литературных и научных текстов, которые, в силу их большой древности, представляют непревзойденный интерес. Ниппур был одним из самых знаменитых центров шумерской религии, а его храм, посвященный верховному богу Энлилю, стал хранилищем древних традиций. Таблички библиотеки, судя по всему, стояли на глиняных полках шириной около 46 см. Храм вмещал не только библиотеку или хранилище, но и школу. В его развалинах обнаружены учебные тексты, подготовленные учителями для учеников. С их помощью легче понять, как молодежь учили писать клинописью. На раскопках удалось найти настоящую школу эпохи Хаммурапи – ее считают самой первой из существующих. Возможно, так и есть, если «школу» рассматривать в техническом смысле, то есть помещение, предназначенное для обучения. Можно не сомневаться, что школы существовали и до Хаммурапи (не только в Египте, но и в Шумере), хотя, даже если их и раскапывали, не всегда можно было догадаться об их назначении. В качестве школьного класса могла использоваться любая комната; иногда детей учили и под открытым небом. Требовалось лишь несколько табличек с изображением знаков, слов или формул, которые следовало скопировать и запомнить, ком свежей глины и пучок тростника.
Существование школ и библиотек предполагает, что изобретение письма имело целью не только сохранение записей. Письмо отвечало еще одной, более важной задаче, которая ускользала от внимания рядового писца, но занимала мысли первых «филологов». Такой задачей было сохранение, исправление и стандартизация собственно языка. До тех пор пока язык остается бесписьменным, он склонен довольно быстро меняться – возможно, даже слишком быстро. Письменность помогает его зафиксировать. Изобретение письма следует считать очень долгим процессом. Основная идея довольно проста, но, какими бы умными ни были древние «филологи», которые пытались ее осмыслить, они, возможно, не могли сразу представить себе ни все трудности, ни средства их преодоления. Сам процесс передачи языка средствами письменности вызывает к жизни филологические задачи и, возможно, пробуждает своего рода филологическое сознание в головах нескольких гениальных людей. Древние грамматисты, которые, возможно, были и первыми учителями (для преподавания предмета необходимо было вначале овладеть им наилучшим образом), составляли списки слов, поделенных на тематические рубрики – предшественники современных словарей. Такие списки были найдены на раскопках в шумерском поселении Урук (Эль-Уарка). Их возраст – ранее 3000 г. до н. э. Семитские захватчики составляли более сложные списки, куда, помимо шумерских слов, входили и их аккадские эквиваленты. Они исследовали морфологию и синтаксис этих языков. Мы уже упоминали хеттские глоссарии, которые продолжали ту же традицию в соседней стране. То, что аккадские, вавилонские или хеттские грамматисты одновременно пользовались двумя или более языками, структура которых была совершенно разной, должно быть, ускоряло их филологическую восприимчивость.
Несмотря на многочисленные уверения в обратном, мы должны сказать, что филология относится к числу не новейших, а древнейших наук. Может ли быть иначе? Ни одна научная работа в любой отрасли не может быть издана без лингвистического аппарата достаточной точности; язык создавали обычные люди, но филологи требовались почти с самого начала, чтобы стандартизовать язык, очистить его и увеличить его точность. Возможно, одно из различий между людьми, которые постепенно создали высокоразвитую цивилизацию, и теми, которые этого не сделали, заключается в том, что первых не слишком долго устраивал традиционный, бессознательный язык; с целью более точного словоупотребления они стремились его анализировать. Филологическое сознание подразумевает большую любознательность. У одних народов такая любознательность была развита лучше, чем у других. Эти народы были нашими духовными предками.
Вавилонская наука
Получив некоторое представление о физических (таблички) и духовных (филология) орудиях, давайте посмотрим, как они помогали познать мир и обогатить познания. Учитывая все вышесказанное, лучшим выражением для обозначения таких познаний будет «вавилонская наука», поскольку основная масса наших сведений идет от вавилонских табличек. На клинописных табличках запечатлены познания шумеров, истолкованные и трансформированные аккадскими (вавилонскими) писцами. Можно, конечно, рассуждать о «месопотамской» или «шумеро-аккадской» науке, однако эти громоздкие конструкции не столь выразительны, как выражение «вавилонская наука». Тем не менее важно не забывать о шумерских корнях и колорите этой науки.
Как правило, «научные» таблички не датированы; даты их возникновения возможно определить лишь в тех случаях, когда известно точное происхождение, то есть, когда археологи обнаруживают их на определенном слое раскопа. К сожалению, многие таблички, доступные сегодня ученым, были куплены у неофициальных копальщиков. Если речь идет об астрономических табличках, иногда датировать оригинальный текст, записанный на них (но не сами таблички), можно на основании сведений, приведенных в текстах. Что касается математики, мы располагаем лишь небольшим фрагментом шумерского текста; большинство задач относится к Древнему Вавилону, остальные относятся к эпохе Селевкидов (то есть к трем последним векам до нашей эры).
Много недоразумений возникло из-за небрежности ученых (имеются в виду не ассириологи, а историки науки и культуры), которые расшифровывали одни и те же главы и даже одни и те же абзацы древневавилонских текстов явно доэллинской эпохи – а также тексты эпохи Селевкидов, то есть постэллинских. Позвольте еще раз повторить, что вся древнегреческая наука (в противовес эллинистической и римской) развивалась в период времени, которому месопотамская и египетская наука не только предшествовала, но и наследовала. Если заменить время пространством, греческую науку можно представить маленьким островом, окруженным Восточным морем. Наши читатели защищены от таких недоразумений, так как в книге не рассматриваются таблички эпохи Селевкидов, принадлежащие уже эллинистической эпохе. За исключением редких кратких ссылок на позднейшие таблички, все документы, о которых идет речь ниже, представляют шумеро-вавилонскую цивилизацию, значительно более древнюю, чем зарождение греческой науки.
Математика
Количество математических глиняных табличек, расшифрованных до последнего времени, не очень велико – около 60. К ним следует добавить около 200 табличек с надписями. Более того, большинство (около двух третей) этих табличек относятся к очень позднему периоду (эпохе Селевкидов). Поэтому в нашем распоряжении остается меньше 100 табличек, которые представляют древневавилонскую математику. Почти все эти таблички, попавшие к нам с нелегальных раскопок, можно датировать лишь очень косвенно и неточно. Более того, у нас нет пособия или учебника, сравнимого с папирусом Ринда. Возможно, так получилось из-за того, что письмо на глиняных табличках, в отличие от свитков папируса, не способствовало созданию длинных текстов. А если такие учебные пособия и создавались, они до нас не дошли. Таблички, на которых записаны длинные тексты, часто разъединялись; отдельные таблички разбивались на куски. Можно сказать, что ученому, который занимается вавилонской математикой, повезло меньше, чем его коллеге, изучающему египетскую математику.
Шумерская система счисления вначале представляла собой смешение десятеричной и шестидесятеричной систем. Похоже, самые древние математики начинали с десятеричной системы, но вскоре осознали, что шестидесятеричная система удобнее. Такой сдвиг, наверняка не случайный, весьма примечателен сам по себе. Шестидесятеричную систему приняли не в чистом виде; последовательность получали, чередуя множители 10 и 6, поэтому: 1, 10, 60, 600, 3600, 36 000 и т. д. (рис. 16). Так как многообразие цифровых знаков ограничивалось клинописью, у шумер имелось лишь два отдельных исходных знака для числительных: V для 1 и 4 для 10, причем первый знак обозначал не только 1, но и 60 в любой степени, а второй значок обозначал не только 10, но и любую степень от 60, умноженную на 10. Таким образом, можно записать, что V = 60я, а 4 = 10 × 60я, где п – любое положительное или отрицательное число или ноль. Таким образом, система счисления была главным образом шестидесятеричной, так как значок для 10 имел подчиненное значение и не было значков для 100, 1000… Сотню записывали как 1, 40; тысячу как 16, 40. Для удобства печатников и читателей в наших примерах вавилонских (шестидесятеричных) числительных мы разделяем разряды запятой, а отрицательную степень от положительной отделяем точкой с запятой; кроме того, мы пользуемся цифрой 0, хотя вавилоняне ею не пользовались. Таким образом, 11, 7, 42; 0, 6 обозначает (602 × 11) + (60 × 7) + 42 + (60-2 × 6) = 40 062,00166.
Абсолютную величину того или иного числа можно было определить только в контексте. Шумеры открыли принцип позиции; поэтому, если в том или ином числительном известна абсолютная величина одного места, величину других мест можно было вычислить. Однако до более поздней эпохи (Селевкидов) у них не было срединного ноля; отсутствие единиц определенного разряда обозначилось пропуском, что вело к неверному истолкованию. Подобные недостатки значительно увеличивали трудность расшифровки математических таблиц.
Рис. 16. Шумерские числительные
Число типа abcdef (без пропусков) следует интерпретировать как а(60)n + b(60)n – 1 + c(60)n – 2 + d(60)n – 3 + e(60)n – 4 + f(60)n – 5, где n может быть 0 или любым положительным или отрицательным целым числом. В целом неясности сокращались или устранялись благодаря последовательности операций. Величина основания 60 также ограничивала выбор: разница между, скажем, длиной в 7 локтей и длиной в 420 или 25 200 локтей настолько огромна, что определенно имелось в виду одно или другое.
Несмотря на свое несовершенство, шумерская система подразумевала некоторую степень арифметической абстракции, что совершенно поразительно. Невозможно понять, как они пришли к такому открытию. Были ли они гениальными вычислителями, которые изобрели такую систему на основании долгого опыта, или система подталкивала их к расчетам постепенно возрастающей сложности и алгебраическим опытам? Может быть, процесс развивался с двух сторон, как часто бывает в истории науки: новые абстракции предполагают новые эксперименты, и наоборот.
Древнейшие шумерские таблички содержат всевозможные числовые таблицы: таблицу умножения, таблицу квадратов и кубов, преобразовав которые получали таблицы квадратных корней и корней третьей степени, обратные таблицы. Если прочесть такую таблицу последовательно, места для двусмысленности почти не остается. Например:
Квадрат 1 составляет 1,
Квадрат 2 составляет 4,
Квадрат 3 составляет 9,
…………………………………
Квадрат 8 составляет 1, 4 (то есть 60 + 4),
Квадрат 60 составляет 60 (то есть 602).
Пока все достаточно просто. Но как счетчики сверялись с отдельными элементами таблицы? Им приходилось соблюдать осторожность, только и всего, и не рассматривать отдельный элемент без соседних. Они могли прочесть «Квадрат 59 составляет 58, 1»; это должно означать (60 × 58) + 1, так как квадрат от 59 должен быть немного меньше квадрата от 60. Выражение «Куб 59 составляет 57, 2, 59» означает (602 × 57) + (60 × 2) + 59.
Особый интерес представляют многочисленные и подробные таблицы обратных величин. После того как шумеры открыли дроби, применение которых построено по тому же принципу, что и применение целых чисел, им в голову пришла гениальная мысль: устранить почти все дроби. Они поняли, что шестидесятеричные дроби – всего лишь вид шестидесятеричных целых чисел, не слишком от них отличающийся (как десятичные дроби – просто вид десятеричных целых чисел, хотя и сейчас некоторые образованные и интеллигентные люди этого не понимают!). Впрочем, в шестидесятеричной системе убираются не все дроби. Как быть, например, с 1/2, 2/3, 3/5, не говоря уже о более сложных? Обстоятельства жизни неизбежно приводят к нешестидесятеричным дробям. Что делать с ними? Свести их к шестидесятеричным можно не всегда. Предоставив еще одно доказательство своей арифметической изобретательности, шумеры подменили дроби обратными величинами. Иными словами, обратные величины позволили им заменить деление умножением. Треть от шестидесяти равна двадцати; они говорили, что обратная величина от 3 – 20; деление на 3 (1/3) можно заменить умножением на 20. Основа 60, которая имеет необычайно большое число множителей (2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30), настолько хорошо поддается обратным подсчетам, что невольно задаешься вопросом, не пользовались ли шумеры этим базовым числом именно потому, что у него столько множителей. Использование обратных величин настолько вошло у них в привычку, что иногда они из-за этого без нужды усложняли свои подсчеты. Так, они говорили, что треть от 6 локтей – это 6 × 20 = 120 = 2 локтя. Или, если нужно было найти квадрат из 12, они брали обратную величину от 12, которая составляет 5; возводили 5 в квадрат, получая 25, и вычисляли обратную величину от 25, которая составляла 2, 24; конечный результат правилен, но его можно было получить легче. Такая математическая слабость хорошо известна; ее наличие лишний раз доказывает, что древние шумеры были настоящими математиками. Они увлекались своими абстракциями до такой степени, что иногда забывали более простые способы решения.
Вышеприведенные примеры касаются очень маленьких чисел, но шумеры довели свои таблицы обратных чисел до очень больших, вплоть до 6019.
Среди степеней 60 одна попадается в древних таблицах особенно часто, а именно 604 = 12 960 0 00. Но это – совершенное геометрическое число Платона, а 12 960 000 дней составляют 36 000 лет по 360 дней, «Великий год» по Платону (продолжительность вавилонского цикла). Жизнь человека продолжительностью в 100 лет содержит 36 000 дней, столько же, сколько лет в «Великом году». Можно сделать вывод, что «геометрическое число», то есть число, измеряющее или управляющее Землей и жизнью на Земле, явно вавилонского происхождения.
Шумеры не только использовали позиционную систему счисления (правда, без 0) и распространили ее на кратные и дольные единицы основания. Их система счисления была тесно связана с вычислением мер и весов. То есть еще до 2000 г. до н. э. они изобрели полную шестидесятеричную систему. Для того чтобы в полной мере оценить их гениальность, достаточно вспомнить, что лишь в 1585 г. фламандец С. Стевин задумал переход от шестидесятеричной системы к десятеричной, а внедрение десятеричной системы началось лишь во время Великой французской революции и не доведено до конца и в наши дни. Древние шумеры были последовательнее многих наших современников, упорно отстаивающих английскую систему мер. Осознав это, уже невозможно считать шумеров примитивными, а наших современников – поистине цивилизованными людьми.
Чем можно объяснить шестидесятеричную систему счисления и передовую математику шумеров? Если ответ на вопрос вообще существует, можно предположить, что шумерская метрология и шумерская система счисления так хорошо сочетаются, потому что развивались вместе. Трудно поверить, что шумеры выбрали бы основание 60 из чисто математических соображений. Проще заключить, что шестидесятеричную систему подсказали им метрологические наблюдения. В самом деле, проводя измерения, то и дело наталкиваешься на невозможность подсчетов из-за выбранного стандарта. Поневоле приходится вводить дроби. Поэтому удобнее взять за стандарт (длины, веса и количества) число, включающее в себя как можно больше множителей. Естественная связь между дробями и метрологией демонстрирует римская система; римские асе или либра, поделенные на двенадцать унций, подразумевали самые распространенные римские дроби. Система отличалась большой точностью. Единственную трудность составлял асе, представлявший двенадцатеричную систему. В силу своей природной гениальности шумеры не допустили такой ошибки. Они применяли шестидесятеричные дроби и шестидесятеричную систему мер и весов вместе с шестидесятеричной системой счисления.
Как ни странно, с течением времени шестидесятеричная система счисления лишь укрепила свои позиции благодаря распространению еще одной единицы, в шесть раз большей. Вначале древние шумеры (как и древние египтяне) считали, что в году 360 дней. Они начали с деления дней на шесть страж (три дневные стражи и три ночные; естественно, они отличались разной продолжительностью). Вскоре шумеры поняли непрактичность неодинаковых временных интервалов для астрономии. Они поделили весь день (день и ночь, nychtemeron) на 12 равных часов по 30 геш каждый. Таким образом, каждый геш равен 4 нашим минутам. То есть их астрономический день был разделен на 360 равных частей. В году насчитывалось 360 дней, а в дне – 360 геш; такое же деление на 360 частей позже применили к параллелям, а еще позже (в эпоху Ахеменидов, ок. 558–330 гг.) к эклиптике (зодиакальным созвездиям). Мы по сей день делим круг на 360 градусов, на основе шестидесятеричной системы, вслед за шумерскими математиками, которые жили больше чем за два тысячелетия до нашей эры.
