Всешутейший собор. Смеховая культура царской России
Tekst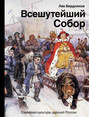


Mine üle audioraamatule
- Maht: 450 lk. 92 illustratsiooni
- Žanr: Vene ajalugu, Antropoloogia, populaarne ajalugu
Из шутов – в адмиралы
Иван Головин
Отпрыск знатного рода, Иван Михайлович Головин (1672−1737) был любимцем Петра Великого. Он начал службу комнатным стольником и сопровождал монарха и в Азовских походах (1695−1696), и по Европе, в составе «Большого посольства» (1697). Царь вознамерился послать его в Италию, где Головину надлежало учиться «корабельной архитектуре». Пробыв за кордоном четыре долгих года, он вернулся наконец в Петербург. Монарх препроводил его в Адмиралтейство и подверг строгому экзамену. Тут-то и выяснилось, что Иван не ведал в корабельном деле ни уха ни рыла. «Выучился ли ты по крайней мере по-итальянски?» – спросил рассерженный Петр. Головину пришлось ответить, что и тут он не преуспел. «Что же ты делал все это время?» – «Всемилостивейший государь! Я курил табак, пил вино, веселился, учился играть на басу и редко выходил со двора», – откровенно признался этот горе-ученик. Как ни горяч был Петр, такой искренний и прямодушный ответ утишил его гнев. Он не только не наказал Ивана Михайловича, но велел нарисовать его парадный портрет, где Головин с трубкой в зубах, окруженный музыкальными инструментами, торжественно восседает за столом, а рядом валяются в небрежении навигационные металлические приборы. Более того, царь дал ему прозвище Князь-бас (игра слов: «бас» – одновременно и «музыкальный инструмент», и, в переводе с голландского, «искусный мастер»), а также – вот, казалось бы, парадокс! – объявил его главным корабелом всего российского флота.
Почему же на столь ответственный пост Петр назначил человека несведущего, явного лентяя и неуча? Прислушаемся, что говорят по этому поводу современники. Камер-юнкер Ф.В. Берхгольц утверждает, что Головин получил это звание «только в качестве царского любимца». Другой иноземец, Ф. Вебер, подчеркивает шутовской характер должности Князя-баса и говорит о ней как о наказании, которому Петр подверг нерадивого подданного. Г.Ф. Бассевич изъясняется более высокопарно и объясняет выбор Петра «одним из тех капризов благоволения, от которых не изъяты и благоразумнейшие из государей».
Хотя некоторые назначения царя действительно можно отнести к «капризам благоволения» (так, он произвел в адмиралы весьма далекого от морского дела Ф.Я. Лефорта, а А.С. Шеина сделал генералиссимусом, хотя тот до того ни разу не побывал на поле брани), случай с Головиным иного свойства. В нем весь Петр – не только великий преобразователь, но и главный шутник своей эпохи, основатель Всешутейшего, Всепьянейшего и Сумасброднейшего Собора, в члены которого, кстати, и был занесен Князь-бас. И причина тому не пресловутый монарший произвол, а уходящие корнями в незапамятные времена законы смеховой карнавальной культуры, адептом которой выступал русский царь, о чем мы уже писали.
Как это водилось у Петра, Князь-бас был окружен всеми внешними атрибутами власти. Царь величал его «высокоблагородным господином» и «высокопочтеннейшим учителем», называл «вторым Ноем», сравнивая заботы Головина о российском флоте с трудами строителя ветхозаветного ковчега. Кроме того, именно Иван Михайлович ведал производством в чины (по ходатайству царя) российских корабелов. Он также получил право при спуске каждого нового корабля на воду церемонно «вбивать в него первый гвоздь и прежде всех помазать немного киль дегтем, только после чего прочие корабельщики, в том числе и сам царь, следовали его примеру». И тогда в Адмиралтействе во славу Князя-баса торжественно палили пушки! Петр взял за правило на каждом застолье провозглашать тост «за деток Ивана Михайловича», то есть за корабли российского флота. Он даже обязался выплатить своему шуту Яну Лакосте астрономическую сумму в 100 тысяч рублей, ежели, паче чаянья, позабудет поднять за Головина заздравный кубок (впрочем, денщики всякий раз услужливо напоминали ему об этом).
Казалось, и сам Головин был преисполнен гордости и чванства. Он одевался щеголевато, вызывающе бряцал двумя золотыми компасами, украшенными драгоценными камнями. На царевых трапезах вальяжно садился по правую руку от Петра, тогда как сам «полудержавный властелин» светлейший князь А.Д. Меншиков пристраивался слева.
Конечно, импульсивный Петр не всегда оказывал Князю-басу должное почитание и уважение. Иногда он срывался, забывая правила придуманной им же самим шутовской игры. Рассказывают, что однажды во время трапезы Головину устроили настоящую экзекуцию: прознав о том, что Князь-бас – большой любитель фруктового желе, царь «велел ему открыть рот… взял стакан с желе и, отделив его ножом, влил одним разом тому в горло, что повторял несколько раз и даже своими руками открывал Ивану Михайловичу рот, когда он разевал его недостаточно широко». В другой раз, будучи на Каспии, Петр собственноручно бросил не умевшего плавать Головина в море, сопроводив это комическое действо забавным стихотворным каламбуром: «Опускается бас, чтоб похлебал каспийский квас!» Если принять во внимание, что вода в Каспийском море из-за содержавшихся в ней нефтепродуктов была горькой, шутка царя выглядела особенно уморительно.
Известный английский историк Л. Хьюз в своей статье «И.М. Головин и потешный двор Петра Великого» отмечала, что Князь-бас играл чисто декоративную роль, в то время как подлинным строителем российского флота был сам царь Петр Алексеевич. Таким образом, Иван Михайлович предстает здесь этаким свадебным генералом, точнее, адмиралом, поскольку речь идет о военно-морском деле. На наш взгляд, это справедливо только в отношении самых первых лет службы корабела Головина. Деятельность же его следует рассматривать не статично, а в динамике и развитии.
Прежде всего (и это отмечали даже его недоброжелатели) Головин вовсе не был человеком бездеятельным, а стяжал себе славу хорошего сухопутного командира – в 1712 году он был произведен в генерал-майоры. И хотя его участие в морских баталиях было менее удачным (в Гангутском сражении его команда потеряла 5 галер, 6 шлюпок и 74 убитыми), сам он показывал чудеса храбрости. Не потому ли царь еще в 1713 году доверил ему возглавить весь гребной флот?
Обратившись к переписке Петра и Головина, становится видно, как из дилетанта и шутовского Князя-баса постепенно вырастает настоящий специалист своего дела, радетель российского кораблестроения. Царь поручает Ивану Михайловичу весьма важные задания, которые тот неукоснительно выполняет. Вот послание Головина Петру, писанное в ноябре 1716 года, в котором тот рапортует: «Получил я, раб Твой, которое письмо… и против того Указа Твоего Царского Величества, принужден я, раб Твой, собрав у них, корабельных мастеров, рапорты такие, что при сем письме до Вашего Царского Величества посылаю. Я, раб Твой, их как возмог собрать к себе и был с ними в Сенате, и после того числа у них бываю и принуждаю… что плотников надлежит и работных людей, дабы толикое число было у мастеров при работах их в собрании в скором времени; и они, Г.г. Сенаторы, принуждены иметь старание о том скорое… Еще Вашему Царскому Величеству доношу, что у которого мастера при корабельной работе сделано, и о том прилагаю рапорт же…» За тяжеловесным слогом угадываются вполне реальные обязанности Князя-баса. Ясно, что вовсе не синекурой была его должность – он распоряжался работой всех корабельных мастеров и строителей, сносился с Сенатом, настаивая на строгом выполнении распоряжений Петра, да и сам проявлял завидную инициативу. Шутовской начальственный тон отсутствует вовсе: Головин трижды (!) уничижительно называет себя рабом его величества. В других письмах он обнаруживает тонкое знание мельчайших деталей корабельной архитектуры, подтверждая тем самым, что оправдал изначальный смысл своего шутовского прозвища – стал искусным мастером.
C 1720 года Головин курировал работы якорных мануфактур в Петербурге и одновременно нес службу камер-советника в Адмиралтейской коллегии.
Со смертью царя прекратил свое существование Всешутейший и Всепьянейший Собор, и само прозвание Головина – Князь-бас – стало забываться. Но военная карьера Ивана Михайловича задалась и при преемниках Петра. Императрица Екатерина Алексеевна в мае 1725 года назначила его вице-адмиралом и удостоила ордена Святого Александра Невского. Особой милостью пользовался Головин и у императрицы Анны Иоанновны, которая в августе 1732 года произвела его в полные адмиралы от галерного флота.
Л. Хьюз высказала справедливую мысль, что выдающейся карьерой Иван Михайлович искупил перед Петром свое прежнее нерадение и леность. Но верно и то, что сам Петр, не делая никаких скидок, предъявлял к своим шутам весьма серьезные, а подчас и повышенные, требования. А потому именно под его десницей шут Головин стал не декоративным, а настоящим адмиралом, прославившим свое имя в истории российского флота.
В заключение несколько слов о потомках Ивана Михайловича. Головин был женат на Марии Богдановне, урожденной Глебовой, от которой имел двоих сыновей, Александра и Ивана, и трех дочерей: Наталью, Ольгу и Евдокию. Сыновья пошли по стопам отца: Александр стал адмиралом, а Иван дослужился до генерал-майора. Наталья вышла замуж за князя К.А. Кантемира, сына знаменитого стихотворца; Ольга – за действительного тайного советника Ю.Ю. Трубецкого. А третьей дочери, Евдокии Ивановне Головиной, вышедшей замуж за офицера лейб-гвардии Александра Петровича Пушкина, суждено было стать прабабкой А.С. Пушкина. Впрочем, этот брак был весьма несчастен – Александр Петрович в припадке сумасшествия зарезал жену, был арестован и скоро умер в тюрьме. К чести Головина, он заботился о воспитании внуков-сирот, которых взял на свое попечение. В их числе был и Лев Александрович Пушкин, будущий дед великого поэта. Сам же Иван Михайлович приходится А.С. Пушкину прапрадедом.
Несостояшаяся лилипутия
Известный современный художник и скульптор Михаил Шемякин изваял сразу три памятника Петру I. Нас интересуют два – один в Гринвиче, что в туманном Альбионе, и другой в пригороде Петербурга Стрельне. На каждом из монументов фигуру великого реформатора неизменно сопровождает карлик.
Сколь ни курьезно выглядит это соседство двухметрового царя с коротышкой, оно обладает известной исторической точностью. Ведь Петр сызмальства проявлял к маленьким человечкам живой и постоянный интерес. Державному отроку не было еще и 10 лет, когда его старший брат, Федор Алексеевич, подарил ему двух низкорослых шутов. Одного звали Комар, другого – Сверчок, причем первый благополучно пережил Петра и развлекал монарха вплоть до самой его смерти. А с другим своим любимым «карлом», Якимом Волковым, царь вообще не расставался – возил его и по заграницам, и по военным бивуакам.
В этом своем пристрастии Петр не был одинок. История придворных карликов ведет свой отсчет с глубокой древности – их держали для потехи египетские фараоны, древнегреческие цари и императоры Рима. Затем мода на них перекинулась в Византию и наконец – в Западную Европу, где без таких забавников (часто выполнявших роль шутов) не обходился ни один уважающий себя королевский двор.
Петр, как известно, называл себя учеником Запада и обустраивал Россию по европейскому образцу. Однако его внимание к карликам отнюдь не было вызвано рабским подражанием дворам «политичной Европии», а коренилось в психологическом складе самого царя, проявлявшего особое любопытство к явлениям аномальным, ко всякого рода уродам и монстрам (свидетельство тому – его знаменитая Кунсткамера). Историки говорят в связи с этим о свойственном Петру стремлении к «барочной сенсационности» с ее отклонением от привычного устоявшегося шаблона, ориентацией на неожиданное и удивительное. Именно феноменальный, патологический характер лилипутства оказался притягательным для царя. К слову, Петра занимала и аномалия обратного свойства, а именно – люди непомерно высокого роста. Известно, что царь преподнес прусскому королю Фридриху-Вильгельму 80 солдат-великанов, которых собрал по городам и весям России.
В силу своей диковинной природы карлики как будто спровоцировали Петра смоделировать для них миниатюрный, но схожий с обыденным, мир. Любитель увеселений и всякого рода кощунств, царь задействует в них и «карлов», тщательно продумывая мельчайшие детали их нарядов, поведения, а также сценарии зрелищ с их участием. То была карикатурная имитация всамделишных обрядов и церемоний русской придворной жизни. Она носила ярко выраженный пародийный характер, ибо эстетически снижала эти вполне реальные действа.
Карлики часто сопровождали царя. В 1693 году, отправляясь в порт Архангельск, он взял с собой двух лилипутов. А в потешных Кожуховских маневрах 1694 года принимала участие целая рота карликов – 25 человек. Примечательно, что на свадьбе племянницы Петра Анны Иоанновны и герцога Курляндского в залу гостям внесли два огромных пирога. Когда их разрезали, то из каждого выскочила обнаженная карлица, станцевала на столе менуэт и произнесла приветственную речь в стихах.
Более того, царь возжелал развести в России целую колонию лилипутов. Если учесть, что карлицы, как утверждают современные врачи, к деторождению не способны, такой замысел монарха был не чем иным, как утопией. Но Петр таких медицинских тонкостей не знал, а потому не думал сдаваться!
19 августа 1710 года последовал монарший указ: «Карл мужского и женского пола… собрав всех, выслать из Москвы в Петербург сего августа 25-го дня, а в тот отпуск, в тех домах, в которых те карлы живут, сделать к тому дню для них, карл, платье: на мужской пол кафтаны и камзолы нарядные, цветные, с позументами золотыми и с пуговицами медными золочеными, и шпаги, и портупеи, и шляпы; и чулки и башмаки немецкие; на женский пол верхнее и исподнее немецкое платье, и фантажи, и всякий приличный добрый убор…» В результате в Петербург съехалось свыше 80 маленьких щеголей и щеголих. Все они должны были гулять на устроенной Петром пышной свадьбе Якима Волкова, сочетавшегося браком с любимой карлицей царицы Прасковьи Федоровны.
Согласия молодых никто не спрашивал – они шли под венец не по сердечной склонности, а по приказу авторитарного Петра. Причем до самого наступления торжеств с «малютками» особо не церемонились: «Их заперли, как скотов, в большую залу на кружале, – сообщал современник, – так они пробыли несколько дней, страдая от холода и голода, так как для них ничего не приготовили, питались они только подаянием, которое посылали им из жалости частные лица». Вспомнили о них только за день до свадьбы. Тогда отрядили двух карлов-шаферов, которые зазывали гостей на торжество, колеся по Петербургу в карете, запряженной маленькой лошадью, убранной яркими разноцветными лентами.
Присутствовавший на церемонии датский посланник Юст Юль разделил всех карликов на три разряда: «Одни напоминали двухлетних детей, были красивы и имели соразмерные члены, к их числу принадлежал жених. Других можно было сравнить с четырехлетними детьми. Если не принимать в расчет их голову, по большей части огромную и безобразную, то и они сложены хорошо, к числу их принадлежала невеста. Наконец, третьи похожи лицом на дряхлых стариков и старух, и если смотреть на одно их туловище, от головы и примерно до пояса, то можно с первого взгляда принять их за обыкновенных стариков, нормального роста, но когда взглянешь на их руки и ноги, то видишь, что они так коротки, кривы и косы, что иные карлики едва могут ходить». Свадебное шествие открывали карлики с презентабельной внешностью, а замыкали те, которые были старше, уродливее и рослее.
Впереди рядом с царем шел виновник торжества – разодетый в пух и прах жених. За ними выступал маленький свадебный маршал с жезлом в руке. Далее следовали попарно восемь карликов-шаферов, потом – невеста и наконец, чета за четой, еще 35 пар. Большинство коротышек были из сословия крестьянского и имели мужицкие ухватки, потому их потуги на европейский политес выглядели весьма комично – шли они неуклюже и нестройно. Сию забавную процессию торжественно встретил поставленный в ружье полк с распущенными знаменами, исполнивший ради такого случая военный марш.
Затем молодых повели в церковь, где их и обвенчали по всем православным канонам. Обряд этот, однако, превратился в самый настоящий балаган – сам священник из-за душившего его смеха насилу мог выговаривать слова. На вопрос жениху, хочет ли он жениться на своей невесте, тот громко произнес: «На ней, и ни на какой другой». Невеста же на вопрос, хочет ли она выйти замуж за своего жениха и не обещалась ли уже другому, ответила: «Вот была бы штука!» Но ответ этот утонул во всеобщем гомерическом хохоте.
После церемонии все отправились в дом А.Д. Меншикова, на Васильевский остров, где гостей ждал званый обед. «Карлы сидели в середине; над местами жениха и невесты были сделаны шелковые балдахины, убранные по тогдашнему обычаю венками… Кругом, по стенам залы, сидела царская фамилия и прочие гости». Петр усердно спаивал и новобрачных, и их маленьких гостей. А когда объявили танцы, вот уж началась настоящая потеха! Захмелевшие карлики то и дело падали, а упав, были не в силах подняться и долго ползали по полу. Распоясавшись, они хватали друг друга за волосы, бранились, а если карлицы танцевали не по их вкусу, давали им увесистые пощечины. Свадьба кончилась тем, что Петр отвез новобрачных во дворец и присутствовал при их брачных играх. Им выделили в Петербурге дом, что находился на углу Б. Левшинского и Штатного (ныне Кропоткинского) переулков.
Увы! Забеременевшая карлица не смогла разрешиться от бремени и умерла вместе с ребенком. А вдовец Яким Волков после смерти жены начал, как говорили тогда, знаться с Ивашкой Хмельницким (пить горькую) и Еремкой (то есть распутничать). Есть свидетельства, что Петр тешил себя тем, что заставлял своих крошек прилюдно заниматься групповым сексом. Не Яким ли был здесь заводилой? Поняв, что план разведения карликов в России не удается, Петр даже запретил им на время вступать в брак.
Когда в январе 1724 года Волков умер, ему устроили беспрецедентные похороны на кладбище Ямской слободы. Как ни дико это звучит, но то были пародийные, «шутовские» похороны, возможные только при Петре. «Едва ли где-нибудь в другом государстве, кроме России, можно увидеть такую странную процессию!» – в сердцах воскликнул наблюдавший ее заезжий иноземец. В самом деле, зрелище было презабавное. Шли впереди 30 мальчиков-певчих; вышагивал за ними в полном облачении поп-карлик; ехали сани, запряженные шестью крошечными пони в черных попонах. На санях стоял гроб усопшего, обитый малиновым бархатом с серебряными позументами. На спинке саней сидел пятидесятилетний карлик, брат покойного. Позади гроба следовал лилипут с большим маршальским жезлом, обтянутым флером. Все были в длинных черных мантиях. Потом выступали карлицы, самую крошечную из которых в глубоком трауре вели под руку двое наиболее рослых карл. А по обеим сторонам процессии выступали рослые гвардейцы и верзилы-гайдуки с заженными факелами. По окончании погребения состоялся поминальный обед.
Подобная же церемония сопровождала кончину другого крошки его величества, Фрола Сидорова, ушедшего в мир иной в феврале того же 1724 года. В ней также приняли участие все наличествовавшие тогда в Петербурге «малютки». И опять все сопровождали гроб в черных одеяниях и были выстроены по росту – поменьше впереди, чуть побольше сзади. И снова гроб везли пони, и снова витийствовал крошечный поп, а по бокам процессии стояли и жгли факелы высоченные солдаты.
Завершая разговор, остановимся на одной паралллели, которую историк Д.И. Белозерова провела в статье «Карлики в России XVII – начала XVIII века». Она обратила внимание на то, что Джонатан Свифт опубликовал свою прославленную книгу «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» в 1726 году, то есть всего через год после смерти Петра. Она высказала дерзкое предположение о том, что карлики Петра I были прототипом свифтовских лилипутов. Это весьма сомнительно, ибо данных о каком-либо влиянии опыта Петра на английского сатирика нет. Тем не менее своим почином создать в Россию колонию карликов – своего рода Лилипутию в миниатюре, – Петр, так же как и Свифт, намеревался едко пародировать вкусы, черты и обычаи современного ему общества. И то, что не удалось великому реформатору, обрело свою жизнь в бессмертном творении классика.
Есть искус распространить метафору английского сатирика шире – на всю эпоху петровских преобразований. Напомним, что русский царь часто сравнивал своих подданных с малыми детьми, не знающими своей пользы, а потому обязанными подчиняться воле мудрого монарха. Россияне и были для реформатора своего рода лилипутами, коими повелевал и над которыми высился он, венценосный Гулливер – Петр по имени Великий.
