История войны и владычества русских на Кавказе. Деятельность главнокомандующего войсками на Кавказе П.Д. Цицианова. Принятие новых земель в подданство России. Том 4
Tekst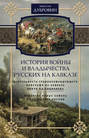


Mine üle audioraamatule
- Maht: 650 lk. 4 illustratsiooni
- Žanr: Vene ajalugu, 19. sajandi kirjandus
Глава 6
Поручение князю Цицианову содействовать освобождению имеретинского царевича Константина. Отъезд из Санкт-Петербурга в Грузию царицы Анны. Отправление Броневского в Имеретию для переговоров с царем Соломоном. Освобождение царевича Константина. Отправление царем Соломоном посольства в Петербург. Просьба и условия, на которых имеретинский царь желал вступить в подданство России. Двуличие Соломона. Его бесчеловечный поступок с посланными к князю Цицианову от Дадиана Мингрельского. Прервание переговоров и обратное отправление посланного в Тифлис. Предположение императора Александра I, высказанное в рескрипте о действиях наших в Закавказье
Неудачная миссия Соколова в Имеретию по делу об освобождении царевича Константина послужила князю Цицианову поводом к началу сношений его с царем Соломоном II.
В декабре 1802 года канцлер уведомил находившуюся в Петербурге царицу Анну, что освобождение царевича Константина не состоялось, что царь Соломон, не имея детей, желает его усыновить, почему канцлер и советовал царице ехать в Грузию, где князю Цицианову поручено было принять новые меры к освобождению царевича[126].
Анна согласилась на сделанное ей предложение и получила дозволение от императора Александра ехать в Тифлис, с производством ей там того же содержания, какое получала она в Санкт-Петербурге[127]. Император Александр в то же время писал князю Цицианову:[128]
«Вам небезызвестен предмет приезда сюда вдовствующей царицы имеретинской Анны; а равным образом, знаете вы, конечно, что по просьбе ее отправлен был отсюда в Имеретию коллежский советник Соколов, с препоручением касательно доставления свободы сыну ее, насилием имеретинского царя в заточении у него содержащегося, и что поездка сего чиновника не имела предполагаемого успеха. Ныне помянутая царица, при изъявлении желания своего отправиться на жительство в Грузию, просила меня, чтобы дело сие препоручено было в особенное покровительство ваше. Я тем удобнее склонился на удовлетворение сей ее просьбы, что и по долгу человечества, и по личному уважению к сану ее, не могу я не принимать особенного участия в стесненном ее положении. Вследствие чего и возлагаю на вас употребить всевозможные способы, кои вы, сколько по вверенному вам начальству в Грузии, столько же и по известному мне вашему благоразумию, найдете за удобные и полезные, для доставления означенному царевичу свободы.
Само собою следует, что подвиги ваши по сему делу должны начаты быть убеждением царя имеретинского на освобождение означенного царевича и уверениями, что, согласись на оное, окажет он мне особливую благодарность. Каким же образом должно быть учинено от вас к нему о том отношение, я предоставляю вам распорядить сие, по лучшему соображению вашему, так, чтобы по известному недоброжелательству к вдовствующей царице, не произошло оттого каких-либо неприятных для нее последствий, как, например, чтобы мщение царя имеретинского не посягнуло на самую жизнь несчастного царевича, как о том даже носились было и слухи. Но если бы предвидели вы, что всякое отношение к царю по сему предмету останется безуспешно и что между тем имели бы вы в виду возможность доставить несчастному царевичу свободу и возвращение в дом матери его способами совсем иными, изобретенными искусством и деятельностью вашею, я не возбраняю даже и употребления в действо сих последних, лишь бы только исполнено оное было приличным образом. Одним словом, чем более приложите вы старание к благоуспешному дела сего окончанию, тем большее приобретете от меня благоволение».
Еще до получения этого повеления князь Цицианов старался, с помощью разных секретных поручений, освободить царевича. Но так как царь Соломон считал минуту его освобождения минутою своей гибели, то он и не надеялся достигнуть этой цели. Вместе с тем князь Цицианов нисколько не беспокоился за жизнь царевича, оставаясь в полном убеждении, что царь Соломон, зная участие, которое принимало в нем наше правительство, не дерзнет покуситься на нее. Когда же главнокомандующий получил приведенный нами рескрипт, которым возлагалось на особое его попечение освобождение царевича, тогда он вступил в переговоры об этом с князем Кайхосро Церетели, пользовавшимся большою доверенностью царя Соломона[129].
После долгого торга и переговоров князь Церетели обещал, за 5000 руб., если не передать царевича Константина в руки князя Цицианова, то, по крайней мере, освободить его из крепости и вместе с тем убедить царя Соломона выдать в наши руки грузинских царевичей Юлона и Парнаоза. Если же последние не будут выданы, то князь Цицианов обещал, собственно за освобождение царевича Константина, заплатить только треть суммы.
Заручившись обещаниями князя Церетели, главноуправляющий, собственно для личных переговоров с царем Соломоном об освобождении царевича Константина отправил в Имеретию своего правителя канцелярии, надворного советника Броневского, которому поручил: 1) требовать освобождения царевича Константина Давидовича, для доставления в Тифлис к царице Анне; если же на это не согласятся, то ограничиться в требовании тем, чтобы царевича выпустили из крепости и привезли в Кутаис; 2) требовать настоятельно выдачи царевичей Юлона и Парнаоза, добровольным их склонением к этому или силою. В последнем случае имеретины должны были доставить их в целости до границ Грузии, а Броневскому предписано было вызвать к границам две роты и передать там царевичей военному начальству; 3) разведать, не согласится ли царь Соломон выпускать ежегодно из Имеретин до 5000 штук строевого корабельного леса за умеренную цену или из усердия[130].
Таким образом, поручение, данное Броневскому к царю Соломону, было двоякое: во-первых, стараться об освобождении царевича Константина, а во-вторых, вызвать из Имеретин царевичей Юлона и Парнаоза, что, казалось, было согласно с видами и самого царя Соломона.
Содержание царевичей и многочисленной их свиты было весьма обременительно для Соломона, так что он принужден был даже наложить на народ особую денежную подать, которая и названа «податью для грузин». Имеретинский царь сознавал, что его подданные были недовольны новыми поборами для содержания иноземных царевичей, и потому сам принимал большое участие в том, чтобы уговорить их выехать в Россию[131]. Первейшие и довереннейшие князья Имеретинские, митрополит Кутаисский, князья Церетели поочередно уговаривали Юлона и Парнаоза; наконец, сам царь Соломон был у них со всем своим советом и говорил, что спасение царства Имеретинского зависит от выезда их в Россию и от исполнения воли императора Александра. Броневский также имел несколько раз свидание с царевичами, но с весьма малым успехом. Целая неделя прошла в одних только ни к чему не приведших переговорах. Царевичи на все уговаривания отвечали отказом; они все еще имели виды и замыслы на царство Грузинское.
Видя все старания безуспешными и в переговорах одну только трату времени, Броневский прекратил переговоры с царевичами и стал требовать решительного ответа по первому поручению, то есть по вопросу об освобождении царевича Константина. Царь Соломон больше всего боялся согласиться на это потому, что не знал, где Константин будет оставлен на жительство. Он боялся, чтобы царевич не остался в Тифлисе и тем не способствовал бы смутам и волнениям в Имеретии.
Опасения Соломона основывались на противоречии, будто бы им найденном в требовании нашего двора. В грамоте императора Александра к Соломону, доставленной ему коллежским советником Соколовым в 1802 году, говорилось, что царевич Константин призывается к высочайшему двору на всегдашнее пребывание в России, а в рескрипте императора Александра к князю Цицианову, от 23 февраля, между прочим упомянуто было о возвращении царевича в дом матери его, которая имела позволение остаться на жительстве в Грузии. Это недоразумение и составляло главную заботу Соломона, который откровенно высказал надворному советнику Броневскому свое опасение, «чтобы пребывание царевича Константина близ пределов имеретинских не произвело пагубных для него следствий в умах подданных царства Имеретинского».
На публичной аудиенции, в присутствии всех князей, составляющих совет, Броневский совершенно неожиданно получил заявление Соломона, что он не может освободить Константина. Имеретинский царь говорил, что для него легче отдать все царство Имеретинское, нежели выпустить царевича из крепости и повергнуть Имеретию в междоусобие. При этом Соломон с самонадеянностью отозвался, что никакая сила не может исторгнуть Константина из заключения. Броневский отвечал скромным замечанием, что достоинству Российской империи неприлично грозить и хвалиться своим могуществом, но что вторичное посольство, оставшись безуспешным, может навлечь на царя справедливый гнев русского императора; что если этот ответ есть последний и решительный, то он завтра же оставит Имеретию.
Соломон с некоторым замешательством уклонялся от решительного ответа, и Броневский располагал выехать на следующий день. Но в ту же ночь князь Кайхосро Церетели, первый сардар Имеретинский и митрополит Кутаисский прислали просить Броневского, чтобы он, хотя под предлогом болезни, остался еще один день, и что они употребят последние средства к склонению царя на освобождение царевича Константина. Броневский исполнил их просьбу, и действительно на следующий день Соломон пригласил его к себе и объявил, что с полною доверенностью к обещанию императора Александра сохранить Имеретию от всех возмущений и удостоить оную покровительством он решился предать «жребий царства Имеретинского в священные руки Александра милосердного и отправить царевича Константина к высочайшему двору».
Таким образом, царевич Константин был освобожден из заточения в крепости Мухури, в которой содержался в течение 10 лет в самом жалком состоянии, не имея не только приличной, но и необходимой одежды[132].
30 мая царевич Константин прибыл в Тифлис, в сопровождении Броневского и князя Соломона Леонидзе, названного вице-канцлером Имеретинским. Последний имел с собою грамоту к императору Александру. Царь Соломон в письме своем писал князю Цицианову, что относительно грузинских царевичей он, забыв родство и единокровие, убеждал к выполнению воли главноуправляющего; что он лишил их всякой надежды на возможность пребывания в Имеретин и объявил, что если они не желают исполнить требований князя Цицианова, то должны выехать из его владений.
«О царевичах грузинских Юлоне и Парнаозе, – доносил князь Цицианов императору Александру, – сделано положение с царем Соломоном на следующем основании: поелику выезд их в Россию на сей раз превосходит всякое ожидание и сколько приметно было из речей их, не прежде может иметь место, как по совершенном их удостоверении в благоволительном и милосердом вашего императорского величества принятии прочих членов царской фамилии, выехавших уже в Россию, в чем, по ослеплению их, кажется, они сомневаются, то царь Соломон, а паче известные князья имеретинские, к нам преданные и в деле сем заинтересованные, дали твердое обещание продолжать всеми мерами наклонять их к выезду в Россию; в случае же, если бы, по легкомысленности их, решились они вдруг оставить Имеретию и искать убежища в Персии, в каковом намерении, по правам гостеприимства и по единокровию, царь Соломон явным образом препятствовать им не может, тогда обещают меня уведомить, какими дорогами намерены они будут скрыться и куда именно, дабы я мог принять заблаговременно нужные меры, для пресечения им пути в Персию, поколику откроется к тому возможность и буде коснутся они пределов грузинских».
В том же письме Соломон просил главноуправляющего об отправлении князя Леонидзе в Санкт-Петербург вместе с царевичем Константином.
По причине разлития реки Терека и сорвания всех мостов в Кавказском ущелье отправление это остановлено было до осени. К тому же в отправлении царевича в Петербург, по мнению князя Цицианова, не было необходимости, так как царица Имеретинская Анна должна была скоро прибыть в Грузию. Император Александр находил, однако же, необходимым все-таки отправить царевича Константина в Россию, собственно для успокоения имеретинского царя и в признательность за его освобождение[133].
Принужденный, однако же, оставить царевича Константина в Тифлисе до восстановления беспрепятственного сообщения через Кавказские горы, князь Цицианов, чтобы отклонить самомалейшее подозрение от царя Соломона в каких-либо противодействиях его власти и «дабы тем более приобресть доверенность его и соседних народов к непобедимости российского оружия и к святости слова», – объявил всем родственникам царевича Константина, в Грузии находившимся, чтобы никто не отваживался ни на какие покушения против Имеретии, если искренно желают своему родственнику счастья, зависящего от благоволения императора Александра. Присмотр за царевичем был поручен его дяде, родному брату царицы Анны, статскому советнику князю Томасу Орбелиани.
Между тем прибывший в Тифлис, вместе с царевичем Константином, посланный царя Имеретинского князь Леонидзе имел поручение отправиться в Санкт-Петербург для представления императору Александру просьбы царя оказать Имеретии покровительство и защиту. Соломон просил императора дозволить посланнику его иметь всегда беспрепятственный доступ к высочайшему двору, возвратить его подданных, ушедших в Грузию, приказать главнокомандующему, чтобы он, по первому требованию имеретинского царя, давал ему в помощь тысячу человек русских солдат, и в случае каких-либо недоразумений или доноса на царя, император не верил бы до получения объяснений Соломона.
Высказывая желание вступить под покровительство России, имеретинский царь просил обнародовать о том «во всех государствах», обещать, что пределы Имеретии останутся в настоящем их положении и что он будет утвержден с потомством в сане царей имеретинских, а в случае его бездетности престол перейдет царевичу Константину. Для разбора ссоры, существующей между царем, Дадианом и владетелем Гурии, и для установления границ между владениями этих лиц Соломон просил прислать комиссара или посредника, который бы на месте утвердил границы на вечные времена свято и ненарушимо[134].
Сознавая, что приобретение Имеретин сколько полезно, столь же и необходимо для России, князь Цицианов торопился отправить князя Леонидзе в Петербург.
«Посланца князя Леонидзе, – доносил князь Цицианов [135], – яко едущего с благодарною грамотою к высочайшему двору вашего императорского величества, после такого явного доказательства преданности царя Соломона к престолу вашего императорского величества, почел я более приличным, нежели нужным, отправить в Санкт-Петербург, куда вслед за сим имеет он выехать из Тифлиса. В грамоте царя Соломона упомянуто о покровительстве и защите Российской Империи, коих неоднократными и различными способами он домогается. От обстоятельств и воли вашего императорского величества зависеть будет даровать или нет царству сему просимое и необходимо нужное Российской державы покровительство. Но если принять во уважение, что Имеретия более 30-ти лет, как будучи избавлена победоносным российским оружием от порабощения Порты Оттоманской, трактатом Кайнарджийским признана независимою, равно как и Мингрелия и владение князя Гуриеля, кроме пристаней по черноморскому берегу, оставшихся в турецком обладании, то беру смелость представить мнение мое на благоусмотрение вашего императорского величества, что диван, кажется, не может иметь никаких правильных притязаний на землю, ни в зависимости, ни в покровительстве турецком не состоящую и которая по единоверию ищет оградить себя всероссийским могуществом от врагов оную окружающих».
С приобретением Имеретин осуществлялось до некоторой степени желание нашего правительства придвинуть сколь возможно ближе к Черному морю наши закавказские владения и развить торговлю черноморских портов. Река Рион, судоходная почти до самого Кутаиса, коей берега покрыты всякого рода строевым корабельным лесом, могла доставить нашим промышленникам богатую отрасль торговли, которая, внося изобилие в наши черноморские порты, вместе с тем должна была развить и торговое мореплавание.
Прибывший в Санкт-Петербург 5 августа 1803 года имеретинский посол князь Леонидзе представил прошение царя и с своей стороны прибавил, что, в случае согласия нашего двора на все просимые Соломоном «пункты», царь тотчас же примет присягу на верноподданство, учредит молебствие и празднества в торжественные дни в честь императорского дома и, наконец, откроет военные действия против владетеля Абхазии, с целью овладеть и передать в распоряжение России столь необходимую для нее пристань Поти.
Последняя, составляя на кавказском берегу единственную удобную гавань, могла служить как складочный пункт для нашей черноморской торговли и была так важна для закавказских владений, что рано или поздно должна была войти в состав Русского государства. Поэтому предложение князя Леонидзе казалось весьма выгодным и, по его словам, легко исполнимым, потому что Абхазия с древних времен принадлежала Имеретин и «обитатели ее суть древние наши подданные, – писал князь Леонидзе. – Абхазия есть владение и столица царства нашего и принадлежит пастве нашего католикоса, признает и титулует нас древним своим наследственным владетелем. Жители сего владения поныне иногда повиновались нам, а иногда отлагались».
Обещая доставлять лес для строения кораблей черноморского флота, открыть всем судам и транспортам свободный путь по Риону до самого моря и, наконец, отдать в пользу России все рыболовные места, князь Леонидзе от имени царя просил, в случае войны с Турцией, оказывать Соломону помощь русскими войсками и силился доказать всю пользу, которую русские императоры могут извлечь из присоединения Имеретин к своей державе. В записке, поданной министерству[136], он говорил, что ни одна страна не представляет таких удобств для России во время войны с Турциею и Персиею, как Имеретия, лежащая между двух этих империй «нерегулярных народов». Князь Леонидзе писал, что Имеретия имеет свободный и ближайший путь в Черное море; что Поти есть наследственное владение имеретинского царя, который владеет озером Палиостомом, «где знатное имеем мы рыболовство и откуда в двадцать пять часов удобно могут достигнуть корабли в Крым». Равным образом, писал он: «от наших гаваней могут на третий день пристать корабли ко дворцу турецкого султана»; берега Черного моря полны множеством хороших дубовых, вербовых и негниющих деревьев и в таком количестве, что сколько бы их ни потребовалось, можно ими пользоваться для строения кораблей. Словом, по его словам, «самая польза Грузии зависит от Имеретии».
Выставляя все выгоды от приобретения Имеретии и действуя исключительно в интересах нашего правительства, князь Леонидзе не справлялся с видами и желаниями уполномочившего его царя Соломона. Он хлопотал только о том, чтобы выставить свою преданность России, подавал министерству особую записку и о своих прежних заслугах, писал на русском языке хвалебный гимн императору Александру и, прежде всего заботясь о награде, старался показать, что все настоящее и будущее в Имеретии зависит не от Соломона, а от него, как лица, имеющего неограниченное влияние над царем имеретинским.
Последний вступал в подданство России вовсе не так чистосердечно, как писал о том в своем прошении. Он желал только получить средство и способы разорить владения Дадиана мингрельского и затем, при первом случае, отказаться от подданства. Нерасположение Соломона к России было так велико, что он не сумел скрыть его даже и в течение того времени, пока посланник его князь Леонидзе находился в Петербурге. Узнавши о том, что одновременно с ним Дадиан мингрельский ищет покровительства России, имеретинский царь предлагал ему помириться и советовал оставить искание о покровительстве, но когда Дадиан не согласился, то Соломон стал собирать войска для новых неприязненных действий против мингрельского владетеля[137].
Одновременно с отправлением князя Леонидзе в Петербург, Соломон отправил другого посла в Константинополь с просьбою у Порты защитить его от русского оружия, которое, должно заметить, еще ни разу его не касалось. Посылка эта осталась без всяких последствий, и бывший наш посланник в Константинополе Италинский уведомил князя Цицианова, что Порта отклонила от себя просьбу имеретинского царя, и его посланный получил во всем отказ. Казалось бы, что после такой неудачи Соломону не следовало становиться в явные враждебные отношения к России, но, как человек характера слабого, ветреный и малодушный, он не мог сдержать себя от поступков, несогласных с расположением его к нашему правительству.
«Известно мне, – писал князь Цицианов императору Александру[138], – что предмет испрошения высочайшего вашего императорского величества покровительства (царем Имеретинским) состоит наиболее в том, чтобы получить сугубые способы притеснять и разорять владения мингрельского князя Дадиана, ныне уже таковым осчастливленного, то, по уважению сих обстоятельств и по легкомыслию царя Соломона имеретинского, я полагаю, что посланец его и при высочайшем дворе вашего императорского величества, в видах своих успеха получить не может. Вследствие чего долгом почитаю предварительно донесть, что таковые неудачи царя Соломона, в намерениях своих колеблющегося, в управлении слабого и повиновения и доверенности в дворянстве не имеющего, могут удобно произвесть в Имеретии возмущение, в азиатском народе столь обычайное, и даже покушение на самую жизнь его, от партии ему недоброжелательной.
В таковых обстоятельствах, для предохранения пределов Грузии от неустройств земли, ввергнутой в раздоры междоусобные, я найдусь в необходимости, под прикрытием войск, ввесть во владение царства имеретинского законного наследника оного, освобожденного царевича Константина, сына царицы Анны. По дошедшим ко мне сведениям, некоторые из первостатейных князей имеретинских, видя непостоянные и бесчеловечные поступки царя Соломона, удалились в свои нагорные имущества, крепостями огражденные, и от повиновения ему уже отказываются».
Мы видели, что император Александр, соглашаясь на принятие Мингрелии в свое подданство, поручил князю Цицианову войти с ним в ближайшее сношение. Главнокомандующий отправил к князю Дадиану грузинского дворянина Давида Мамацева[139], для объявления воли и согласия императора Александра, с целью заключить с ним предварительное условие как о подданстве, так и о продовольствии войска нашего, на случай прибытия его в Мингрелию. Имея причину ожидать, что царь Имеретинский будет неравнодушно смотреть на покровительство, обещанное князю Дадиану, непримиримому его неприятелю, князь Цицианов приказал Мамацеву ехать через Ахалцих и тем избегнуть границ имеретинских.
Вскоре потом прибыли к главноуправляющему от князя Дадиана два дворянина: Кайхосро и Ростом Квинихидзе – и объявили, что они посланы были с письмами; но на пути, в Имеретин, были задержаны, письма отняты, и после нескольких дней заключения сами они освобождены[140]. При обратном отправлении из Тифлиса посланные князя Дадиана, наученные опытом в опасности первого пути, прокрадывались непроходимыми путями чрез Имеретию, по ночам, но все-таки были захвачены вторично. Один из них успел спастись бегством в Грузию, а другой, по отобрании от него бумаг, потерпел бесчеловечное истязание и брошен с башни в реку Рион. Из бывших при них служителей один убит, а другой спасся бегством[141].
С Мамацевым царь Имеретинский поступил точно так же. Он подговорил владевшего Гуриею Кайхосро Гуриеля схватить посланного при проезде его через Гурию. Мамацев был остановлен, и письмо князя Цицианова отобрано; подлинник отправлен к Соломону, а копию с него Кайхосро послал Дадиану[142]. Не имея еще никакого известия о Мамацеве, главнокомандующий находился в сомнении, не захватил ли Соломон и его в свои руки, подобно тому, как поступил он с мингрельскими посланными. Поэтому, при обратном отправлении посланных Дадиана, князь Цицианов мало того что послал с ними ответ, но и передал этот ответ в копии князю Палавандову, ехавшему в Имеретию по собственным своим делам и имевшему там родственные связи, с просьбою отправить эту копию в Мингрелию через верного человека.
К царю же имеретинскому главнокомандующий написал письмо[143], в котором говорил, что возвратившийся из Имеретии князь Палавандов заявил ему, «что на возвратном пути из Тифлиса мингрельские дворяне, два брата Квинихидзе, вторично были остановлены, но на сей раз с большим бесчеловечием, ибо один из них убит, а другой ранен[144], и что отнятые от них письма мои, князю Дадиану посланные, читаны и показаны были князю Палавандову, которому по сему случаю якобы оказаны были некоторые личные неприятности».
Не давая полной веры такому происшествию, нарушающему права гостеприимства не токмо у христианских держав, но и во всей Азии, варварскими народами против посланцев сохраняемые, не могу, однако ж, скрыть я перед вашим высочеством моего прискорбия и вкупе удивления ко всему тому, что дошло до моего сведения».
Чтобы удостовериться в истине, князь Цицианов послал письмо царю Соломону, но не с нарочным, а по почте до Сурама, прося его прислать ответ также в Сурам, в котором и объяснить истину «сего постыдного происшествия». Главнокомандующий указывал Соломону на двуличность его поведения и поступков.
«Вы ищете, – писал он, – высокого покровительства и сильной защиты его императорского величества, и с таким намерением отправили посланца своего князя Леонидзе к высочайшему двору, но в то же время оказываете неприязненные поступки не только против земли, осчастливленной всемилостивейшим покровительством великого моего государя императора, но даже в сем происшествии открывается явное недоброжелательство ваше к России, ибо особа посланцев во всех землях почитается священною, хотя бы таковые были от самих неприятелей».
Князь Цицианов старался убедить имеретинского царя, что принятие Дадиана Мингрельского в подданство России не должно нисколько беспокоить самого Соломона, что, напротив того, Россия, будучи беспристрастным посредником, может помирить и прекратить вражду, существующую с давних времен между царем имеретинским и владетелем Мингрелии, и в особенности тогда, когда имеретинский царь также вступит в ее подданство. Главнокомандующий просил Соломона оставить всякие покушения и притязания на Мингрелию, по крайней мере до тех пор, пока князь Леонидзе не возвратится из Петербурга с окончательным решением императора Александра.
«В окончание сего, – писал князь Цицианов, – долгом поставляю себе объявить вашему высочеству, что предстоят вам и царству вашему два пути, которых избрание зависит от произвола вашего. Я, со своей стороны, сохранил свято данное мною вам слово, соблюл ненарушимый союз соседства и сожалеть буду, если обстоятельства принудят меня переменить мои правила».
Соломон, как и следовало ожидать, оправдывался и писал, что Квинихидзе убит без ведома его, за то будто бы, что украл несколько лошадей и был догнан хозяевами их, а Палавандов был задержан по причине болезни, а вовсе не по недоброжелательству царя к России[145]. Эти отговорки не могли скрыть истины, и неприязненные поступки Соломона явно показывали, что кроме вероломства мы от него ничего ожидать не могли. Петербургский кабинет сожалел, что князь Цицианов за такой поступок тотчас же не наказал имеретинского царя занятием Кутаиси. По мнению тогдашнего министра иностранных дел графа Воронцова, неприязненные поступки Соломона могли служить достаточным поводом, чтобы силою оружия присоединить Имеретию к России[146], и если князь Цицианов этого не сделал, то петербургский кабинет, по крайней мере, находил напрасным продолжать переговоры с находившимся в Санкт-Петербурге посланником имеретинским. Хотя и можно было ожидать, что князь Леонидзе, по известным видам и своей алчности, не оказал бы большего упорства в постановлении с нами каких угодно условий, но податливость эта осталась бы тщетною и не привела бы ни к каким положительным результатам, так как не было надежды на то, что Соломон утвердит постановленное князем Леонидзе. Не желая вступать в такие сношения, которые были несовместны с достоинством России, император Александр приказал прекратить все переговоры, начатые с князем Леонидзе в Санкт-Петербурге, и отправить его обратно.
«Владельца имеретинского Соломона, – писал граф Воронцов[147], – я думаю, в вероломствах его добрыми средствами, конечно, исправить нельзя, а хорошенько его по-азиятски постращать, то и будет он гладок, в чем мы на вас и полагаемся. Посланника его мы к вам отошлем с объявлением ему, что вы во всем уполномочены с царем его кончить».
По поручению канцлера, титулярный советник Татищев пригласил к себе князя Леонидзе, вручил ему ноту и приказал переводчику прочесть перевод ее на грузинский язык. В ней объявлено было князю Леонидзе, что бесчеловечный поступок Соломона с посланными от главнокомандующего к Дадиану, происки царя у Порты в то самое время, когда он изъявлял нам желание вступить в подданство России, и, наконец, его насильственные поступки в Мингрелии, где он увел из Одиши до 400 пленных, тогда как известно ему было, что Дадиан принят уже под защиту России, – все это заставило наше правительство пресечь переговоры с его посланным.
Слушая чтение ноты, князь Леонидзе как бы не верил своим ушам и несколько раз высказывал свое удивление в перемене образа мыслей нашего правительства.
– Поступки владетеля Имеретии были таковы, – отвечал ему Татищев, – что всякий любящий добродетель и искренно приверженный к всероссийскому престолу, по справедливости, должен им удивляться.
Князь Леонидзе счел долгом ответить на это заявлением о своей искреннейшей преданности России и православию и клялся, что если бы образ его мыслей не был всегда таков, то не дерзнул бы он приехать с поручением от царя своего к высочайшему двору.
– Содержание врученной ноты, – заметил Татищев, – отнюдь лично к себе принимать вы не должны, так как она имеет в виду единственно поступки Соломона.
Князь Леонидзе просил разрешения в оправдание царя подать письменное объяснение, но ему отвечено, что все поступки Соломона, изложенные в ноте, известны достоверно министру и объяснения никакого не требуют. Посланник просил дозволить ему хотя словесно высказать свое объяснение, в чем ему отказано не было.
– Если посылаем был кто-либо в Константинополь, – сказал князь Леонидзе, – для испрошения у Порты покровительства, то полагаю, что посланный сей отправлен был грузинскими царевичами, укрывающимися в Имеретии. Что же касается до поступков царя с Дадианом, то, имея целью покорить земли, издревле принадлежащие Имеретии, царь не знал, что Дадиан вступил уже в подданство России.
